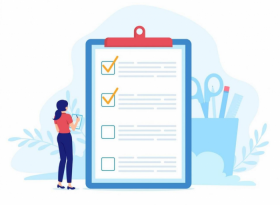Промпроизводство в России в феврале 2018 выросло на 1,5% год к году. Это существенно ниже показателя января (2,9% год к году), но если сравнивать два первых месяца 2018 с тем же периодом 2017 года, то прирост составит 2,2%, при общем 2%ном росте ВВП. МЭР считает показатели стабильными и проявляет определенный оптимизм, отмечает Андрей Хохрин, начальник управления ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
 Прирост производства и приращение ВВП есть. Вопрос в достаточности этого прироста. Россия – пока не постиндустриальная экономика, и динамика промышленности для нас – важный показатель. А по этому показателю мы сейчас проигрываем не только Китаю и Индии (с большим отрывом), но и США, и средним значениям по G20.
Прирост производства и приращение ВВП есть. Вопрос в достаточности этого прироста. Россия – пока не постиндустриальная экономика, и динамика промышленности для нас – важный показатель. А по этому показателю мы сейчас проигрываем не только Китаю и Индии (с большим отрывом), но и США, и средним значениям по G20.
Получается, что, взяв за основу политическую стабильность и постепенное повышение благосостояния граждан, мы, действительно, имеем и первое, и второе, но в сравнении с соседями все более проигрываем, до сих пор не придавая этому особого значения. Наверно, когда США окончательно опередят Россию по добыче нефти, будет какое-то общественное обсуждения, но вряд ли продолжительное.
Кстати, такая парадигма на длинном временном горизонте времени губительна. Растущее относительно прошлых лет, но постепенно отстающее от по сравнению с ведущими экономиками благосостояние общества при открытых границах требует от власти аргументации, почему же у нас хуже, чем у них.
Российская власть в начале десятых прибегла к универсальному аргументу – стала восстанавливать и наращивать военный потенциал. Сначала рост военных расходов всегда выглядит как продуктивный: возвращаются к жизни предприятия оборонного заказа, происходит оживление в смежных отраслях. Однако продукт военного производства, сам по себе, не приносит дополнительной стоимости.
Получить деньги здесь можно или от экспорта, и тогда почти все нужно поставлять на экспорт, а в России это вовсе не так, или от победоносной захватнической войны, но по счастью, это не наш случай. Со временем же приведенная парадигма только ухудшает экономические показатели и все более опускает страну и в плане благосостояния, и в плане темпов роста.
Далее, приведу ряд частных, но важных причин торможения.
Структурные изменения экономики остановились. 2014 год, когда нефть начала отвесно падать (со 115 долл. за баррель брент в сентябре 2014 до 27 в январе 2016), произошел закономерный структурный кризис: доля нефтянки в ВВП и бюджете стала таять, связанные и нефте- и газодобычей производства и услуги оказались в депрессии. Наверно, если бы нефтяные цены остались на 30-50 долларах кризис завершился бы настоящей сменой экономической структуры.

Добыча нефти во второй половине 2017 года перестала расти, но растет экспорт. Это уже более тревожно. Получается, что при более низкой цене сырья, нефтяники менее склонны к его переработке, оно просто гонится за рубеж, где покупатели готовы платить больше, чем внутри страны. Таким образом, в структуре выручки важнейшей отрасли экономики доля глубокого передела сокращается, зависимость от ценовой конъюнктуры мирового рынка растет, добавленная стоимость с единицы сырья снижается.
Протекционизм теряет действие. Ответные эмбарго, которые российские власти активно вводили в 2014-2015 годах, после введения антироссийских санкций, дали очевидный толчок сельскому хозяйству и производству потребительских продуктов.
Даже в 2017 году отраслевые лидера по приросту – производство мяса скота и особенно птицы (в среднем 11%-ный рост). Конечно, при перекосе экономической структуры в пользу добычи полезных ископаемых этот вклад не так заметен, но он есть. Однако эти отрасли остаются низкотехнологичными, способны обслуживать, в основном, внутренний спрос.
А внутренний потребительский спрос в условиях слабого, в целом, экономического роста – не способен самостоятельно заметно повышаться. Так что опасаться стагнации в этом сегменте можно уже в 2018 году.

В 2017 году из-за банкротства «Югры», санации «Открытия», «Бинбанка», «Промсвязьбанка» эта система окончательно утратила диверсификацию и внутреннюю конкуренцию, а заодно и экономическую эффективность. Т.к. госбанки неэффективны по своей сути.
Главная задача любого банка – кредитовать реальный сектор – решается очень однобоко: кредитуются «понятные» и, в основном, крупнейшие бизнесы (возвращаемся к нефтегазу и прочей добыче). То же сельское хозяйство, для которого создан отдельный специализированный РСХБ и введено субсидирование процентных ставок, массово жалуется, на гигантские залоги, которые требуются для получения кредитов и на безразличие кредитных экспертов к реальной оценке имущества и будущих денежных потоков.
Процент убыточных предприятий постепенно растет, вклад в экономику малого бизнеса сократился до пренебрежимых величин, средний бизнес не выдерживает давления со стороны крупнейших компаний. В 2016 году, по оценке Росстата, доля убыточных предприятий составляла 26%. При выходе из структурного кризиса их доля должна сокращаться.
Но в 2017 году Росстат насчитал их немного больше – 26,3%. При имеющихся темпах роста экономики и производства в нынешнем году можно было бы ожидать еще большего процента. Но цифры лукавы: в России продолжается укрупнение хозяйствующих субъектов, представители среднего бизнеса, находящиеся на грани рентабельность или под этой гранью встраиваются в вертикально интегрированные холдинги, собственная эффективность которых тоже под вопросом. Особенно печально, что основное давление со стороны крупнейших, часто государственных, корпораций испытывают высоко рентабельные и эффективные компании среднего уровня. Их среднестатистическая судьба – то же поглощение более крупными и, увы, менее эффективными структурами.